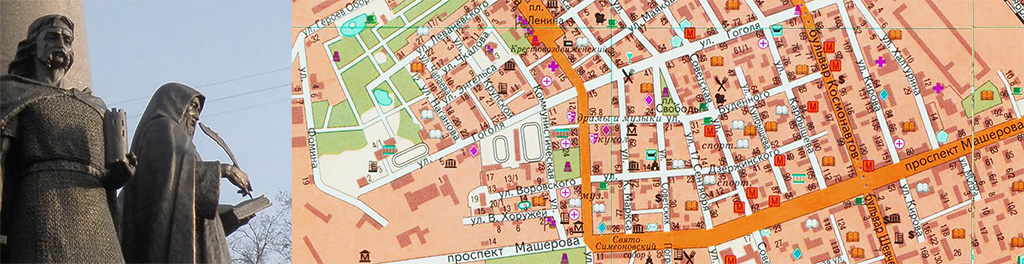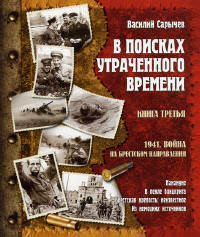Последний вывоз
Предыдущую главу мы посвятили последнему предвоенному дню. Но
мало кто знает о никак не связанных с предстоящей войной
людских трагедиях, разворачивавшихся в это время на скрытых от
глаз тупиковых ветках железнодорожных станций. На вторую
половину июня 1941 года была назначена очередная (для Бреста –
четвертая с осени 1939-го) волна депортации. Невероятно
длинный эшелон набитого людьми товарняка формировали на путях
станции Брест-Восточный, причем часть вагонов с выселенцами
пригнали из районов.
Во второй книге мы уже писали о ряде таких судеб. За семьей
Лосей на Граевку приехали в последнюю неделю перед войной.
Резкий стук в дверь перед рассветом, обыск и около часа на
сборы. Взяли, что сообразили в переполохе, – икону, швейную
машинку «Зингер», настенные часы. Что-то вывернули из шкафов
на одеяла, связали в узлы и забросили на подогнанную
«полуторку». Выгрузили Лосей на Березовке близ станции
Брест-Восточный – в накопительном пункте, разбитом в голом
поле. Огороженное проволокой пространство и несколько наскоро
сколоченных бараков.
Вместе с этой семьей попали в холодный Алтайский край
14-летняя учащаяся «хандлювки» Женя Вавдыш с родителями
(мотивы не выяснены), жена подофицера Анна Козак с улицы
Траугутта (ныне Клары Цеткин) на Граевке…
Эшелон отправили на Восток в последний мирный вечер 21 июня
1941 года. В районе станции Минск-Сортировочный состав угодил
под бомбежку, и дальше его заколоченным гнали несколько суток,
останавливая лишь для замены локомотива. Первый раз теплушки
открыли где-то под Горьким. Из вагонов извлекли десяток
трупов.
Должна была оказаться в депортации и знакомая читателю по
первой книге Люся Хомич (помните девочку, что в пять лет сама
пошла записываться в школу, а годы спустя, в сентябре 1939-го,
попала с мамой под страшную бомбежку возле магазина Бата на
Пушкинской). Накануне кто-то работавший в советском учреждении
и видевший вывозные бумаги предупредил маму Люси: «Пани Хомич,
готовься, вы и Высоцкие в списке».
За соседями Хомичей Высоцкими приехали примерно в два часа
ночи 22 июня – отправленным накануне километровым эшелоном
дело не ограничилось. Высоцких отвезли на станцию и погрузили
в вагон. А за Хомичами вернуться не успели: ударил немец. Под
внезапно обрушившимся артиллерийским огнем конвой разбежался.
Кто-то из железнодорожников открыл вагоны, и народ кинулся
врассыпную. По воспоминаниям очевидцев, часть вагонов еще не
были заполнены: доставка людей продолжалась. Мать и сын
Высоцкие, схватив узлы, побежали домой на улицу Полевую и
спрятались в погребе. Так и прожили в Бресте всю оккупацию, а
после освобождения в конце сороковых уехали в Польшу.
Девочка на снимке – Тома Матвеева. Ее отец, уроженец деревни
под Санкт-Петербургом, происходил из бедной многодетной семьи,
но был взят на воспитание богатым бездетным петербуржцем,
разглядевшим в мальчике большие способности. Получив
образование, Андрей Матвеев пошел по военной линии. В качестве
офицера царской армии долго служил в Финляндии. После
революции вступил в белогвардейскую армию генерала
Булак-Балаховича. На излете Гражданской войны остатки
балаховцев были прижаты Красной армией к границе Кресов
Всходних (будущей Западной Белоруссии), и поляки открыли для
них границу.
Матвеев обосновался в деревне Рогозно (ныне Брестского
района), женился на местной жительнице Анастасии Долбенко.
Жена, простая деревенская девушка, не знала, что такое пудра и
румяна, а он регулярно накладывал на лицо кремы и маски. Знал
языки, играл на многих инструментах, что, впрочем, мало
востребовалось в новой жизни. В сельское хозяйство Матвеев не
пошел, а подряжался бригадиром куда-то за Варшаву, где
строилась дамба и укреплялись берега Вислы. Работал вахтовым
методом: весной уезжал на полгода, а зиму проводил дома, раз в
месяц ходя в гмину получать жалованье.
В 1929 году родилась Тома – единственный ребенок в семье.
C установлением советской власти в 1939 году Матвеева несколько
раз вызывали на беседы, но какое-то время не трогали. Видно,
не докопались до «боевого прошлого». Пришли за семьей только в
ночь на 21 июня 1941 года. 11-летняя Тома еще не в состоянии
была понять весь кошмар ночного стука в дверь, необратимо
разломившего на куски их семью и всю жизнь. Старший тройки
НКВД предъявил ордер, вероятно, на обыск. В доме имелась
большая библиотека, отец ее тщательно собирал, не жалея денег
на книги, говорил, что его дочь будет образованным человеком.
А сейчас бойцы сбрасывали книги со стеллажей на пол и ходили
по ним сапогами. Отец сидел в кресле от плетеного гарнитура, и
по лицу катились слезы. Сказал дрожавшей как осиновый лист
Томе: «Запомни это, дочь, на всю жизнь».
Закончив осмотр дома, Матвеевым велели собираться. Замешенное
на ночь мамой тесто так и осталось в сенях. Прибежавшая мамина
сестра принесла хлеба в дорогу. Мама успела что-то связать в
узел и забросила в одну из телег, которые органы на время
проведения вывоза реквизировали у деревенских. Матвеевых
повезли.
На железнодорожной станции Дубица близ заставы мужчин отделили
от остальных арестованных и куда-то отвели (больше Тома отца
не видела), а женщин и детей посадили в вагон-«телятник» с
зарешеченным окошком. Решетки эти (как тогда говорили, «краты»)
не являлись заводскими комплектующими, план на их изготовление
был спущен брестским вагоноремонтникам в конце осени 1939
года. Кузнец бывшей «зброёвни» Сильвестр Чеберкус
устроился было кузнецом в вагоноремонтные мастерские, но
быстро оттуда ушел: хоть деньги неплохие, но тяжело морально.
Внутри теплушки – нары и дырка у стенки, чтобы оправляться. К
рассвету в вагон свезли 56 женщин и детей из Домачевского
района. 21 июня часам к 10–11 утра вагон дотянули до Бреста и
прицепили к эшелону (состав сформировали из таких вагонов со
всей области). В три часа дня поезд тронулся в восточном
направлении.
Мест на нарах всем не хватало – ночью спали дети, а матери
сидели на полу, днем менялись. Раз в сутки где-то на очередной
станции конвойный откидывал засов, и в вагон давали похлебку.
У кого не оказалось миски, приспосабливали какой-нибудь
черепок.
22 июня эшелон проходил белорусскую столицу. Сцепщики вагонов
на станции Минск-Сортировочный говорили в окна: «Люди, война
началась!»
Привезли в Барнаул. Поселили на окраине города в выстроенных к
приезду трех больших бараках. В двух разместили таких же
несчастных литовцев и латышей, в одном – «поляков», как
называли депортированных из Западной Белоруссии. В барак
вбивали целый эшелон из расчета: на один вагон – один отсек и
кухня. И общий для всех длинный сквозной коридор.
Нары – сплошной настил в два яруса. Спали вповалку, прижавшись
друг к дружке. Мужчин не было, только мальчики до 15-ти лет.
Наутро пришли записывать, кто по желанию пойдет работать на
стройку – носить по трапам кирпичи и раствор. Строили дома и
эвакуированные в чистое поле заводы. Мама записалась и,
наверное, угадала, потому что потом подогнали грузовики и
отправили несогласившихся на лесоповал.
Маме дали карточку на 600 граммов хлеба, для Томы – на 300
граммов. При стройке была столовая, давали похлебку на мерзлой
картошке и зеленых помидорах, на второе – немножко каши. Мама
звала Тому: приходи в обед, я тебя покормлю. Тома понимала,
что маме самой не хватает, и отказывалась, но не выдержала и
несколько раз пришла.
Детей определили в школу. На занятиях давали трехкопеечную
булочку. Если кто-то пропускал уроки по болезни, булочку
получала подружка.
В начале 1942 года как-то вечером после работы в барак пришли
три человека, показали маме ордер на арест и увели, перед этим
изъяв семейные фотографии (часть их через полвека вернули
дочери) и письма отцу. 12-летнего ребенка оставили в бараке.
Беспризорная, никому не нужная, она часто ходила за
7 километров в центр города, где находилась тюрьма НКВД,
умоляла сотрудников: «Отдайте мою маму! Как мне жить?» Ей
отвечали: «Иди отсюда, девочка, а то и тебя арестуем!» И она в
слезах шла обратно, а назавтра все повторялось.
Иногда Томе все же разрешали свидание. На одном из них мама
рассказала, что на работе к ней подослали какого-то парня,
который все спрашивал, как при Польше жили. Простодушная
женщина отвечала как было: нормально жили, муж работал, я на
хозяйстве, всё имели... А потом ей за это дали 58-ю статью –
10 лет за антисоветскую пропаганду.
Школу Тома не оставляла. Кто-то отжалел ей кирзовые сапоги
41-го размера, девочка наматывала на свою детскую ножку
тряпок, чтобы не так болтались. Кто-то дал фуфайку, соседка по
нарам сшила из старого байкового одеяла платье – и так Тома
ходила на занятия.
Потом была трескучая зима, и девочка бросила школу. Сидела
голодная в холодном бараке, по три дня ничего не ела. Хлеб из
расчета 300 граммов в день можно было взять по карточкам
вперед на неделю – иногда так брала, а потом – ребенок же – не
выдерживала и за раз съедала. За водой огромные очереди,
колонка одна на весь барачный поселок, приходилось выстаивать
с ведром часами. Как-то стояла в очереди согнутая, укутанная,
а женщина сзади: «Бабушка, подвинься…» Тома обернулась, а
женщина так и всплеснула руками: «Господи, дитя!»
Маму с другими заключенными тюрьмы под конвоем водили работать
на строительство завода. Однажды по дороге она встретила
женщину из барака и передала дочери, где ее найти. Тома
разыскала маму на той стройке. Узнала не сразу: мама была
остриженная и вся седая.
Девочка наведывалась на стройку до холодов, после работы шла
рядом с мамой до самого лагеря, куда несчастную женщину
перевели из тюрьмы НКВД после суда. Конвоир был не против. А
23 мая 1943 года мама умерла от дистрофии 3-й степени – так
свидетельствовало присланное Томе на барак извещение.
Теперь девочка осталась одна на целом свете. Но надо было
как-то жить. Весной вместе с другими детьми, чьи матери
работали, отправлялись в поле, где весь день ходили за пашущим
трактором в надежде набрать мерзлых картофелин. Потом десяток
километров тащили обратно каждый свое ведро. В бараке картошку
чистили, прокручивали через мясорубку и пекли лепешки на
раскаленной печи.
Еще ездили за Обь рвать щавель и луговой лук (нечто среднее
между луком и чесноком). Садились в поезд Барнаул-Новосибирск
(зайцами, конечно, откуда деньги), при появлении проводника
прятались под сиденья. Обратно до станции тянули наполненный
мешок волоком, нести не хватало сил. Взрослые пассажиры
помогали забросить в тамбур. Вечером в бараке вязали добычу в
пучки и на другой день шли на рынок продавать. Наторговывали
за два дня на буханку хлеба…
Под окном барака Тома вскопала землю и посадила несколько
картофелин. Поселенцы знали, что это сироткина грядочка, и
никто к ее урожаю не прикасался.
В школе Тома сдружилась с одноклассницей, барнаульской
девочкой, чьи родители держали козу. Мама подружки иной раз
наливала Томе стакан козьего молока – может, это и поддержало.
Женщина работала уборщицей в учебном комбинате, и девочки
приходили помочь. Она рассказала Томину историю своему
директору.
Директор говорил иногда: «Тамарочка, прибери в моем кабинете».
Девочка убирала на совесть. Директор хвалил, спрашивал, хорошо
ли учится. «Да, я стараюсь». Он обещал устроить рассыльной:
«Будешь разносить бумажки, получишь карточку в столовую, а по
вечерам станешь учиться на машинистку». И она жила этой
надеждой.
С эвакуацией заводов пришла уйма машинописной работы. Штатные
машинистки не справлялись, и каждый мог брать работу на дом.
Печатная страничка стоила 5 рублей, и Томе давали
подрабатывать. Машинка имелась в отделе кадров. Девочка так
набила руку, что лучше всех в группе сдала экзамен, показав
результат 120 ударов в минуту. Получила отличную оценку и
перспективу попасть в приемную к управляющему. Тома старалась,
понимала, что помощи ждать неоткуда, это был ее шанс. Так
оказалась в управлении, замещала часто болевшую немолодую
секретаршу. Получала карточки в столовую.
В конце войны в организации присылали американскую
гуманитарную помощь – платья, заокеанские туфли. В мастерской
по выданному на Тому ордеру пошили фуфайку. Жизнь более-менее
налаживалась.
Из трудовой книжки: «25 сентября 1944 года принята на работу в
отдел кадров в качестве рассыльной. 10 марта 1945 года
переведена на должность машинистки в управление треста. 29
июля 1946 года освобождена от работы по реэвакуации».
В 1946 году двоюродная тетя, которая была в Бресте замужем за
подполковником, оформила девушке разрешение вернуться в
пограничный город. Домой Тома ехала «пятьсот-веселым» – так
называли вагоны с реэвакуированными. Вагон с возвращавшимися в
Белоруссию бесконечно перецепляли от поезда к поезду,
пассажирским и товарным – добирались с Алтая целый месяц.
Жила поначалу то в Бресте, то у второй своей тети в Рогозно.
Узнала, наконец, судьбу отца. Всех мужчин, сидевших в
каталажке на заставе, и его в том числе, 22 июня 1941 года
немцы распустили по домам. Андрей Матвеев вернулся в Рогозно,
снял доски с заколоченной хаты и стал жить. А в 1942 году его
убили. Как сказали дочери местные люди, «достали из леса».
Видно, значился в каких-то списках подлежавших ликвидации. А
может, заупрямился: на селе, чтобы выжить, надо было днем
ладить с немцами, ночью – с партизанами, а он не хотел.
Чувствовавшие неладное соседи советовали: «Уходил бы, Андрей,
из деревни». Он отвечал: «Забрали семью, пусть убивают и
меня». Так и случилось. Однажды утром пришла тетя рассказчицы
– он сидит в кровати залитый кровью…
Осенью Тома устроилась на работу машинисткой в Брестское
облстатуправление (размещалось в здании облисполкома). Через
какое-то время перешла в торгово-кооперативную школу на
ул. Дзержинского, где подруга работала бухгалтером. Потом
школу перевели в Гродно, подруга поехала, а Тома осталась.
Оформилась переводом в облпотребсоюз.
В 1948 году познакомилась со служившим в Бресте
солдатом-срочником и вышла замуж. Осенью 1949 года родила
первую дочь. Жизнь вошла в колею. Позже Тамара перешла в
военторг, потом кассиром в парикмахерскую артель, научилась
стричь. Артель находилась на ул. Советской рядом с кинотеатром
«1-го Мая», потом ее передали комбинату бытового обслуживания с
целым рядом подобных объектов.
Так прошла жизнь. Тамаре Андреевне около восьмидесяти, у нее
две дочери, трое внуков.
Эта открытая, приветливая женщина удивительным образом сумела
не обозлиться в обкраденной своей жизни, хотя не забыла
ничего: ни хорошего, ни плохого. Не забыла она помощи добрых
людей, встретившихся на ее пути, но не выпустила из памяти и
ночного обыска, грязных сапог, топчущихся по книгам отца,
нищенского быта на краю света, сиротской своей доли и безвинно
уничтоженной мамы, сброшенной с биркой на ноге в неведомую
общую могилу… Она и рада бы многое позабыть, только не
получается. Да, наверное, и нельзя. Бережно хранимый
фотомонтаж, заказанный в свое время в ателье из двух маленьких
снимков папы и мамы, – все, что у нее осталось из поры
светлого детства. И еще – обычная человеческая память.
© Василий САРЫЧЕВ